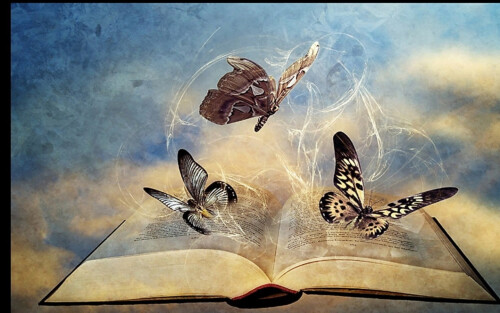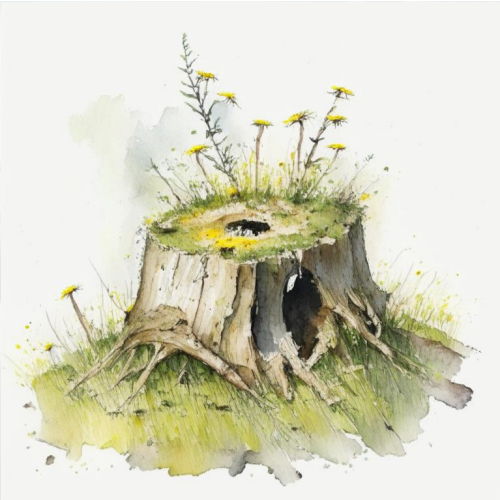Эпитафия смыслу
Номинация: «Малая проза»
ЭПИТАФИЯ СМЫСЛУ
В. Н. Шабунин
Вступление
“Скорбь — знание, и тот, кто им богаче,
тот должен был в страданиях постигнуть,
что древо знания — не древо жизни”
– Джордж Байрон
Соглашаясь с одним немецким философом, бог все-таки умер. И едва ли жизнь людей после этого стала легче. Два варианта дальнейшего развития человечества с полученной свободой заключались в общественном нигилизме или в переходе к новой ступени развития, преодолению условностей жизни и собственной природы. Второго, однако, не случилось. Либо люди должны были обуздать достигнутую бездну, либо она их. С определенного этапа история перестала течь прежним образом – люди начали осознавать настигнутое. Появившаяся вдруг свобода, с одной стороны, вверила всё в руки человека, с другой же, человек был не готов к столь тяжелой ноше. Новой истины не последовало за ее предшественницей, что породило замешательство и хаос. В результате, коренное изменение общественной культуры и сознания людей, уклада мышления, траур по богу или радость по его кончине, неутешность сознания или безмятежность новой мысли. Изменение подорвало ключевую систему ценностей, деревянный крест смысла, от которого зависели все остальные производные жизни, был повален. Однако отсутствие бога породило постоянное присутствие «вседозволенности». Новая история – это история человека освобожденного, оттого растерянного, без основы под ногами; человека, основным мотивом существования которого теперь стало противоречие: счастье от получения желанной свободы и скорбь по упущенному раю.
Начальные точки моего эссе – крах былых фундаментальных ценностей и утрата осмысленного мира. От эпохи потерянного смысла, чью мелодию так чутко уловил Фридрих Ницше, до наших дней прошло достаточно времени для рассмотрения культурно-исторического материала и общественного осознания новых экзистенциальных идей. Искусство, политические и культурные события будут взяты мной для изучения последствий того события, которое было названо вышеупомянутым немецким философом «смертью бога». Главным образом исходя из идей, представленных в философии Ницше, я постараюсь провести цепь его «несвоевременных размышлений» до наших дней, привести им доказательства, данные временем. Подобным выстраиванием связи, я хочу провести рефлексию длиною в век и
«Старая истина изжила себя», а новой и быть не может. Главная проблема современного человека утрате осмысленности жизни, которую ранее создавала вера. Опыт переоценки ценности последовал за дискредитацией модели «истинного мира». Понятия добра и зла, искусства, вечности и даже красоты подверглись реформациям. Их смысл был поколеблен, классические определения потеряли свой вес, догмы были оставлены в прошлом. Великий метафизический мятеж в истории разрушил былые стены, растёр границы, посягнул на сам фундамент бытия. Однако являлись ли эти процессы осознанными? Кому обязаны мы нашим настоящим?
НИГИЛИЗМ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ
Именно с понятия нигилизма начнётся моё эссе. Наступившее молчание в ответ на вопрос «зачем», усомнение в прежних духовных скрепах, религиозных учениях, отрицание «истины» как основы модели мира. Нигилизм – экзистенциальный переворот в сознании человека. «Падение морального мироистолкования, не находящего себе более санкции, после того, как им была сделана попытка найти убежище в некоторой потусторонности: в последнем счете—нигилизм» [Воля к власти, стр. 29] Однако с какой неудовлетворенностью столкнулся человек и что предшествовало его пессимизму как первой ступени к нигилизму?
Концепция «истинного мира»
На протяжении двух с половиной тысяч лет человеческая цивилизация по-разному истолковывала мир и место человека в нём. Философия и религия пытались объяснить мир посредством приписывания к нему различных критериев ценности. В ответ на молчание мира, люди решили наделить его даром речи, сами начали говорить за него – этим объясняется происхождение религии. Естественный мир не мог больше удовлетворять человека с его жаждой знать. Отклонившись от природы, человек стал искать ответы в самом себе. Выстраивая философские системы, первостепенной задачей которых было наделить мир и человека ценностью – этим являлись первые критерии, созданные человеком, которые и стали определяющими в ходе дальнейшего развития. Божественная теория как бы создала ещё один мир высших ценностей, обладающий некой истинной, в которой человек начал видеть счастье, благо, вечную жизнь, рай. Этот истинный мир отделился от естественного, более того, он стал выше него. Люди стали верить в божественный идеал, существующий параллельно со всем земным, который должен был освободить их от пут незнания. Наличие системы, превосходящей человека в несколько раз, оправдывающей мир и его жизнь, подобно детали, существующей в механизме чего-то намного большего, которое и придавало ей смысл.
Все теории об «истинном мире», которые даровали бы человеку иллюзию цели, оправдывали его существование и являлись для него оплотом и проводником к чему-то бесконечно большому были лишь обманом зрения. Человеческое блуждание в «мире идей» и приписывание потустороннему миру истинности продолжалось до тех пор, пока он не открыл глаза на то, что взаправду его окружает. Оторвавшись от созерцания фантомных образов, человек увидел мир, к которому был не готов.
СМЕРТЬ БОГА
«Бога нет. А земля в ухабах.»
– Иосиф Бродский
Человек разочаровался в своих надеждах: то что раньше считалось им за неприкосновенную истину перестало быть для него авторитетным. Это изменение ранее установленного человеческого взгляда на мир со стороны бога, как бы «поверх мира», «над миром» на то, что находится у нас под ногами.
Религиозно-нравственные установки перестали служить догмами для человека. Осознание логики религии как непостижимого доказательства абстрактной истины создало для бога неблагоприятные условия властвования над смыслом. «Смерть Бога означает утрату веры в саму возможность построение единой и систематичной концептуальной модели мира, радикальный отказ от претензии на всеобъемлющее описание и объяснение, ибо исчез источник универсальной генерализирующей интерпретации Универсума.» Бог представлял собой абсолют, истину, которые были нужны человеку для объяснения мира и своего места в нём, он являлся основным критерием ценности мира и придавал человеку значимость вселенского масштаба, уверенность в причастности к «высшему замыслу». Божественная интерпретация бытия безосновательно стала претендовать на истинность, в сущности являясь лишь бегством человека от реальности к подобию ясности. Для своего вывода немецкому философу не потребовалось доказательств того, что бога нет. Вместо этого Ницше обнародовал психологию верующих, осознал то, во что они верят – истинный мир как теория для «нуждающихся в утешении», чтобы найти спасение от своего незнания и непонимания.
Дыра размером с Бога
Бог умер, но на том месте, что занимал он раньше в душе человека оказалась дыра – «дыра размером с Бога».
По своему обыкновению вслед за потерей возникла «ностальгия». На место того, что раньше создавало смысл человек поставил идеологию, государство, прогресс, проч. Человек продолжил ошибочно полагать, что в мире должен присутствовать смысл, и вместо авторитета былых ценностей выступил авторитет новых. Это бремя стало возлегать на плечах человека, только уже с осознанием всей тщетности и бессмысленности этих ценностей. В этой безумной игре человек стал судорожно пытаться ухватиться за что-либо, что могло бы оправдать его существование. XX век – время великого безумия, когда в одну пропасть канули бог, былые постулаты, отныне не имевшими прав признавать себя истинными, вместе с тем и сама ценность человеческой жизни стала под вопрос. Крах гуманистических идеалов, расцвет марксизма и две мировые войны есть следствия обесценивания человека.
Открытой вседозволенностью были обусловлены величайшие злодейства против человечества. Безудержная погоня за острыми ощущениями, не знавшая цену людских жизней. Человек как расходный материал политической идеологии, военных действий. Утрата абстрактных божественных понятий означала появление абстрактных человеческих понятий. Человек был лишён сверхчувственной сферы мира, заключавшей в себе цель, смысл, истину. Попыток избавиться от этих критериев полагания не будет достаточно, чтобы человек смог окончательно избавиться от их пут. Новое раскинувшееся море жизни с закатом старых идолов представляет собой величайшую опасность вместе с бесконечными возможностями. Человеку наконец стала доступна абсолютна свобода, предлагающая возможность самому установить себя богом или капитулировать перед бременем этой свободы.
Последний человек
Бог умер и человек стал один. Ничто больше не может претендовать на абсолютную истину. На человека налегло огромное бремя свободы и ответственности. Эту ношу невозможно разделить ни с одним ближним. Человек переживает трагедию выбора и неразрешимость внутреннего противоречие.
Осознание своей смерти в качестве последней точки человеческого существования сделало невозможным надеяться на воссоединение с чем-то большим. Удел человека – его земная жизнь. В акте смерти – его сущность. Единственным местом человека является земное царство, где он себе и раб, и бог. Но главный конфликт в неразрешимости противоречия: желание осмысленности нашей жизни и неразумного мира, неспособного ответить на наши моления.
Миф о Сизифе и почему Посторонний счастлив
Неутолимость человеческого стремления жить и трагедия жизни – то, о чём писал французский философ Альбер Камю. Поставив главной проблемой абсурдность человеческого существования, Камю не стал говорить об абсурде как об окончательном выводе из жизни. Человек абсурдный сознаёт своё представление о мире как о театре с декорациями и стенами, которые составляют суть его важнейших идеи и понятий. Тем не менее, всё создаваемое нашим разумом в попытках обосновать мир, есть лишь абстракция. Всюду, где человеку пытались просунуть смысловую подоплёку мира, обманывали его. Окончательно осознав это, мир предстаёт перед человеком в своей великой наготе, которая не имеет ничего общего с тем, что раньше приписывали миру. Напротив, она противоречит смысловым истолкованиям. Называя это абсурдом, Камю исправляется: он говорит лишь о «неразумности мира». Абсурд скрывается в разочаровании разума перед безмолвием вселенной. Попытки создать осмысленность внутри мира сводятся к невыразимости его содержания – вместо слов возникает молчание.
«Молчание есть аутентичная форма слова»
Ускользающая из-под пера философов и писателей истина исполнена неизъяснимым значением. Философия прошлого пыталась изучать знание о мире, теперь же окончательное знание есть лишь познание. В мире, который мы не способны объяснить и понять, у нас остаётся лишь возможность взгляда, чувства, запечатления моментов нашей жизни. Молчание есть нетронутая связь между человеком и миром. Перефразируя Альбера Камю, мы привыкаем к жизни задолго до того, как учимся говорить. Сознание есть стена между человеческими ожиданиями и мирскими закономерностями. «Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне противостою всем моим сознанием, моим требованием вольности. Ничтожный разум противопоставил меня всему сотворенному, и я не могу отвергнуть его росчерком пера.» Проблема заключается в постоянных притязаниях и требованиях к миру, а все попытки объяснить мир являются неоконченными и оттого безрезультатными. Истина находится не в философских эссе, а в звёздном небе, свежем морском воздухе, криках чаек – в созерцательной направленности нашего ума на мир нас окружающий. Молчание есть лишь самая близкая форма слова по отношению к миру, природе. Это отсечение всего лишнего, отказ от формирования собственных отвлеченных понятий на счёт предметов и явлений и лишь их фиксация в сознании.
Взгляд ребёнка, который завороженно смотрит на что-то новое, не пытаясь унифицировать или объяснить это, есть по сути самый чистый взгляд на мир. Научиться воспринимать мир в своём чувственном, первозданном виде без примесей рационалистического мышления стало бы преломляющим камнем в бесконечных философских вопрошаниях человека. Чистый, свободный взгляд, не отвлеченный абстрактными образами, но прикованный к действительности, освободил бы человека от притязаний на смысл. Главной задачей бы стало не его нахождение, а поиск чистой формы предмета, её бытийного смысла, тождественного бесконечному количеству других смыслов, а также признание его полноты и самоценности. В таком подходе однако мы не сводим сознание к примитивному восприятию окружающего, напротив, действительность предстаёт перед нами исполненными самых ярких, доселе не различаемых красок. Герои литературных и философских произведений Альбера Камю отличаются своей чистотой восприятия мира. Их слова во взгляде, действии, вздохе. Принимая абсурдность своего существования в мире, они становятся одержимыми любовью к нему. Любовь как ответ на молчание становится их страстью.
Сизифов труд
Модель абсурдного человека Альбер Камю представил с помощью древнегреческого мифа о Сизифе в своём одноименном философском эссе. Сизиф был осуждён вкатывать камень на гору, который от вершины непременно скатывался бы вниз, заставляя его заново начинать свою работу. Сизиф слишком любил жить и пренебрегал богами, за что они принудили его к тяжкому и бесцельному труду – боги видели в этом высшее наказание человека. Однако Камю предлагает посмотреть на Сизифа под другим углом – со стороны его собственного взгляда, который неустанно направлен на собственную судьбу. Жизнь Сизифа становится связанной и целой, в его непременном следовании судьбе скрывается высшая любовь к жизни. Кара богов не заключалась непременно в страданиях Сизифа, они заставили его трудиться, осознавая тщетность всех его стремлений. Несмотря на весь кажущийся трагизм и безвыходность положения, в этой последовательности у Сизифа есть место для радости. Ему было бы достаточно лишь признать власть над собственной судьбой и до последнего оставаться верным ей. Одновременно принимая условия своего существования, он бросает вызов судьбе. Там, где на его лице должна быть скорбь, через напряженное лицо прослеживается улыбка.
Человек абсурда принимает бессмысленность своей жизни и равноценность всех его стремлений, которые в конечном счёте приводят к одному. Та сила, что движет Сизифом заключается в действии, в выказывании своего бунта против богов и своего человеческого удела, в высшей любви к жизни и признании её ценности. Отказываясь от богов, человек берёт ответственность за жизнь в свои руки, он обращается к тому, что может помыслить, увидеть, дотронуться, что всегда было у него под ногами.
В прошлом боги наделяли человеческую жизнь смыслом, однако, отказываясь от трансцендентного, человек начинает обращаться к тому, что может помыслить, увидеть, дотронуться, что всегда было у него под ногами. Он отказывается от мира идей, будучи привлекаемым лишь тем, что его окружает. Созерцание Сизифа направлено на его неустанную деятельность. Активное высвобождение созидательной энергии, то есть страсть к жизни делает из него не мученика, не раба богов, но властителя собственной судьбы. Модель Сизифа в философии Камю как бы продолжает идею «активного нигилизма» Ницше, заключающуюся в экспансии «воли к власти», мощи духа. В таком образе отрицание богов, отказ от поисков «возвышенного» становится не роком человека, но единственно гуманным решением по отношению к нему. Сизиф свободен в возможности выбора: впасть в отчаяние или не быть покорённым страданиями и обрести новую силу, которая приводила бы его в движение каждый раз, как камень скатывался недалеко от вершины скалы. Из двух форм бесконечной свободы Сизиф нашёл положительную, это и делает его счастливым.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, в эссе я не смогу охватить все сферы культуры и истории, представляющих для меня интерес в качестве хроники великих идей. Описывая лишь несколько крупных явлений в искусстве и философии, я не надеюсь на полное воссоздание хронологической цепи, однако они были важны для постановки вопроса самому себе: как идеи переживают своих создателей и продолжают существовать параллельно человеческому развитию. Хотя относительно и их создание: идеи возникают из общего, суммы всех явлений. Творец открывает их лишь уже давно существовавшими, констатирует их. В своём проекте я привёл несколько феноменов, служащих доказательством этой теории: каждое явление в искусстве, философии является уже исторически обусловленным. Так же и современный человек: его характер продиктован временем, но не наоборот. Лишь возвращение к прошлому, к условным истокам мысли может дать нам представление о настоящем времени. Здесь ставится вопрос о роли человека в истории: как продукт или тот, кто ее пишет — однако это тема уже другого эссе. «История должна сама разрешить проблему истории» — говорит Фридрих Ницше. В этот раз я выступил в роли наблюдателя процесса трансформирования идей, их воплощения на холстах художников и в работах философов. Проводя красную нить эссе от смерти бога до его реинкарнации в новом виде, я постарался запечатлеть проблему смысла для человека, ее развитие. Она не исчезла, человек не смог перешагнуть через неё и тень утраченного смысла до сих пор продолжает висеть над человечеством, являясь одним из главнейших факторов развития. Главнейшие ценности лишь изменили место своего существования. Модель иерархии ценностей стала диктоваться политикой и медиа. Жизнь стала оправдываться идеями «общего блага» или «всеобщего хаоса». Стандартизация счастья ведёт к сосредоточенности на иллюзорной цели. Человеку предлагается фикция, которая могла бы заместить смысл, и он начинает стремиться к ней, забываясь в собственной слепоте.
Мозг — точно айсберг с потекшим контуром,
сильно увлекшийся Куросиво.
– Иосиф Бродский
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Ф. Ницше «Воля к власти»
Ф. Ницше «Сумерки идолов, или как философствуют молотом»
Ф. Ницше «Весёлая наука»
А. Камю «Миф о Сизифе»
А. Камю «Посторонний»
П. П. Гайденко, «Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская категория трансценденции», В кн.: Современный экзистенциализм. М.: "Мысль", 1966, стр.77-107.
Ж. П. Сартр «Объяснение постороннего», [Электронный ресурс] URL: http://noblit.ru/node/1131
Оставьте первый отзыв
Другие работы конкурса